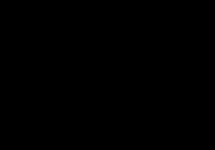Я всю жизнь прожил не в городе. Когда я в 1881 году переехал на житье в Москву, меня удивила городская бедность. Я знаю деревенскую бедность; но городская была для для меня нова и непонятна. В Москве нельзя пройти улицы, чтобы не встретить нищих, и особенных нищих, не похожих на деревенских.
Нищие эти — не нищие с сумой и Христовым именем, как определяют себя деревенские нищие, а это нищие без сумы и без Христова имени. Московские нищие не носят сумы и не просят милостыни. Большею частью они, встречая пли пропуская вас мимо себя, только стараются встретиться с вами глазами. И, смотря по вашему взгляду, они просят или нет. Я знаю одного такого нищего из дворян. Старик ходит медленно, наклоняясь на каждую ногу. Когда он встречается с вамп, он наклоняется на одну ногу и делает вам как будто поклон. Если вы останавливаетесь, он берется за фуражку с кокардой, кланяется и просит; если вы не останавливаетесь, то он делает вид, что это только у него такая походка, и он проходит дальше, так же кланяясь на другую ногу. Это настоящий московский нищий, ученый. Сначала я не знал, почему московские нищие не просят прямо, но потом понял, почему они не просят, но всё-таки не понял их положения.
Один раз, идя по Афанасьевскому переулку, я увидал, что городовой сажает на извозчика опухшего от водяной и оборванного мужика. Я спросил:
— За что?
Городовой ответил мне:
— За прошение милостыни.
— Разве это запрещено?
— Стало быть, запрещено, — ответил городовой.
Больного водянкой повезли на извозчике. Я взял другого извозчика и поехал за ними. Мне хотелось узнать, правда ли, что запрещено просить милостыню и как это запрещено. Я никак не мог понять, как можно запретить одному человеку просить о чем-нибудь другого, и, кроме того, не верилось, чтобы было запрещено просить милостыню, тогда как Москва полна нищими.
Я вошел в участок, куда свезли нищего. В участке сидел за столом человек с саблей и пистолетом. Я спросил:
— За что взяли этого мужика?
Человек с саблей и пистолетом строго посмотрел на меня и сказал:
— Вам какое дело? — Однако, чувствуя необходимость разъяснить мне что-то, он прибавил: — начальство велит забирать таких; стало быть, надо.
Я ушел. Городовой, тот, который привез нищего, сидя в сенях на подоконнике, глядел уныло в какую-то записную книжку. Я спросил его:
— Правда ли, что нищим запрещают просить Христовым именем?
Городовой очнулся, посмотрел на меня, потом не то что нахмурился, но как бы опять заснул и, садясь на подоконник, сказал:
— Начальство велит — значит, так надо, — и вновь занялся своей книжкой.
Я сошел на крыльцо к извозчику.
— Ну, что? взяли? — спросил извозчик. Извозчика, видно, заняло тоже это дело.
— Взяли, — отвечал я.
Извозчик покачал головой.
— Как же это у вас, в Москве, запрещено, что ли, просить Христовым именем? — спросил я.
— Кто их знает! — сказал извозчик.
— Как же это, — сказал я, — нищий Христов, а его в участок ведут?
— Нынче уж это оставили, не велят, — сказал извозчик.
После этого я видал и еще несколько раз, как городовые водили нищих в участок и потом в Юсупов рабочий дом.
Раз я встретил на Мясницкой толпу таких нищих, человек с тридцать. Спереди и сзади шли городовые. Я спросил:
— За что?
— За прошение милостыни.
Выходило, что по закону в Москве запрещено просить милостыню всем тем нищим, которых встречаешь в Москве по нескольку на каждой улице и шеренги которых во время службы и особенно похорон стоят у каждой церкви.
Но почему же некоторых ловят и запирают куда-то, а других оставляют? Этого я так и не мог понять. Или есть между ними законные и беззаконные нищие, или их так много, что всех нельзя переловить, или одних забирают, а другие вновь набираются?
Нищих в Москве много всяких сортов: есть такие, что этим живут; есть и настоящие нищие, такие, что почему-нибудь попали в Москву и точно в нужде.
Из этих нищих бывают часто простые мужики и бабы в крестьянской одежде. Я часто встречал таких. Некоторые из них заболели здесь и вышли из больницы и не могут ни кормиться, ни выбраться из Москвы. Некоторые из них, кроме того, и загуливали (таков был, вероятно, и тот больной водянкой). Некоторые были не больные, но погоревшие, или старые, или бабы с детьми; некоторые же были и совсем здоровые, способные работать. Эти совсем здоровые мужики, просившие милостыню, особенно занимали меня. Эти здоровые, способные к работе мужики-нищие занимали меня еще и потому, что со времени моего приезда в Москву я сделал себе привычку для моциона ходить работать на Воробьевы горы с двумя мужиками, пилившими там дрова. Два эти мужика были совершенно такие же нищие, как и те, которых я встречал по улицам. Один был Петр, солдат, калужский, другой — мужик, Семен, владимирский. У них ничего не было, кроме платья на теле и рук. И руками этими они зарабатывали при очень тяжелой работе от 40 до 45 копеек в день, из которых они оба откладывали, — калужский откладывал на шубу, а владимирский на то, чтобы собрать денег на отъезд в деревню. Встречая поэтому таких же людей на улицах, я особенно интересовался ими.
Почему те работают, а эти просят?
Встречая такого мужика, я обыкновенно спрашивал, как он дошел до такого положения. Встречаю раз мужика с проседью в бороде, здорового. Он просит; спрашиваю его, кто он, откуда. Он говорит, что пришел на заработки из Калуги. Сначала нашли работу — резать старье в дрова. Перерезали всё с товарищем у одного хозяина; искали другой работы, не нашли, товарищ отбился, и вот он бьется так вторую неделю, проел всё, что было, —ни пилы, ни колуна не на что купить. Я даю деньги на пилу и указываю ему место, куда приходить работать. Я вперед уже уговорился с Петром и Семеном, чтобы они приняли товарища и подыскали ему пару.
— Смотри же, приходи. Там работы много.
— Приду, как не прийти! Разве охота, —говорит, —побираться. Я работать могу.
Мужик клянется, что придет, и мне кажется, что он не обманывает, а имеет намерение прийти.
На другой день прихожу к знакомым мне мужикам. Спрашиваю, приходил ли мужик. — Не приходил. И так несколько человек обманули меня. Обманывали меня и такие, которые говорили, что им нужно только денег на билет, чтобы уехать домой, и через неделю попадались мне опять на улице. Многих из них я признал уже, и они признали меня и иногда, забыв меня, повторяли мне тот же обман, а иногда уходили, завидев меня. Так я увидал, что в числе и этого разряда есть много обманщиков; но и обманщики эти были очень жалки; всё это были полураздетые, бедные, худые, болезненные люди; это были те самые, которые действительно замерзают или вешаются, как мы знаем по газетам.
Толстой Лев Николаевич
Так что же нам делать
Л.Н.Толстой
ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?
И спрашивал его народ, что же нам делать? И он сказал в ответ: у кого есть две одежды, тот отдай неимущему; в у кого есть пища, делай то же. (Луки III, 10, 11).
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут.
Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут.
Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло.
Если же око твое будет худо, то все тело будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?
Никто не может служить двум господам; ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить богу и мамоне.
Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа во больше ли пищи и тело одежды?
Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?
Потому что всего этого ищут язычники; в потому что отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.
Ищите же прежде царствия божия в правды его, и это все приложится вам. (Мтф. VI, 19 - 25, 31 - 34).
Ибо легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царствие божие. (Мтф. XIX, 24; Луки XVIII, 25; Марка X, 25).
Я всю жизнь прожил не в городе. Когда я в 1881 году переехал на житье в Москву, меня удивила городская бедность. Я знаю деревенскую бедность; но городская была для меня нова и непонятна. В Москве нельзя пройти улицы, чтобы не встретить нищих, и особенных нищих, не похожих на деревенских. Нищие эти не нищие с сумой и Христовым именем, как определяют себя деревенские нищие, а это нищие без сумы и без Христова имени. Московские нищие не носят сумы и не просят милостыни. Большею частью они, встречая или пропуская вас мимо себя, только стараются встретиться с вами глазами. И, смотря по вашему взгляду, они просят или нет. Я знаю одного такого нищего из дворян. Старик ходит медленно, наклоняясь на каждую ногу. Когда он встречается с вами, он наклоняется на одну ногу и делает вам как будто поклон. Если вы останавливаетесь, он берется за фуражку с кокардой, кланяется и просит; если вы не останавливаетесь, то он делает вид, что это только у него такая походка, и он проходит дальше, так же кланяясь на другую ногу. Это настоящий московский нищий, ученый. Сначала я не знал, почему московские нищие не просят прямо, но потом понял, почему они не просят, но все-таки не понял их положения.
Один раз, идя по Афанасьевскому переулку, я увидал, что городовой сажает на извозчика опухшего от водяной и оборванного мужика. Я спросил:
Городовой ответил мне:
За прошение милостыни.
Разве это запрещено?
Стало быть, запрещено, - ответил городовой. Больного водянкой повезли на извозчике. Я взял другого извозчика и поехал за ними. Мне хотелось узнать, правда ли, что запрещено просить милостыню, и как это запрещено. Я никак не мог понять, как можно запретить одному человеку просить о чем-нибудь другого, и, кроме того, не верилось, чтобы было запрещено просить милостыню, тогда как Москва полна нищими.
Я вошел в участок, куда свезли нищего. В участке сидел за столом человек с саблей и пистолетом. Я спросил:
За что взяли этого мужика?
Человек с саблей и пистолетом строго посмотрел на меня и сказал:
Вам какое дело? - Однако, чувствуя необходимость разъяснить мне что-то, он прибавил: - Начальство велит забирать таких; стало быть, надо.
Я ушел. Городовой, тот, который привез нищего, сидя в сенях на подоконнике, глядел уныло в какую-то записную книжку. Я спросил его:
Правда ли, что нищим запрещают просить Христовым именем?
Городовой очнулся, посмотрел на меня, потом не то что нахмурился, но как бы опять заснул и, садясь на подоконник, сказал:
Начальство велит - значит, так надо, - и вновь занялся своей книжкой.
Я сошел на крыльцо к извозчику.
Ну, что? взяли? - спросил извозчик. Извозчика, видно, заняло тоже это дело.
Взяли, - отвечал я.
Извозчик покачал головой.
Как же это у вас, в Москве, запрещено, что ли, просить Христовым именем? - спросил я.
Кто их знает! - сказал извозчик.
Как же это, - сказал я, - нищий Христов, а его в участок ведут?
Нынче уж это оставили, не велят, - сказал извозчик.
После этого я видал и еще несколько раз, как городовые водили нищих в участок и потом в Юсупов рабочий дом.
Раз я встретил на Мясницкой толпу таких нищих, человек с тридцать. Спереди и сзади шли городовые. Я спросил:
За прошение милостыни.
Выходило, что по закону в Москве запрещено просить милостыню всем тем нищим, которых встречаешь в Москве по нескольку на каждой улице и шеренги которых во время службы и особенно похорон стоят у каждой церкви.
Но почему же некоторых ловят и запирают куда-то, а других оставляют? Этого я так и не мог понять. Или есть между ними законные и беззаконные нищие, или их так много, что всех нельзя переловить, или одних забирают, а другие вновь набираются?
Нищих в Москве много всяких сортов: есть такие, что этим живут; есть и настоящие нищие, такие, что почему-нибудь попали в Москву и точно в нужде.
Из этих нищих бывают часто простые мужики и бабы в крестьянской одежде. Я часто встречал таких. Некоторые из них заболели здесь и вышли из больницы и не могут ни кормиться, ни выбраться из Москвы. Некоторые из них, кроме того, и загуливали (таков был, вероятно, и тот больной водянкой). Некоторые были не больные, но погоревшие, или старые, или бабы с детьми; некоторые же были и совсем здоровые, способные работать. Эти совсем здоровые мужики, просившие милостыню, особенно занимали меня. Эти здоровые, способные к работе мужики-нищие занимали меня еще и потому, что со времени моего приезда в Москву я сделал себе привычку для моциона ходить работать на Воробьевы горы с двумя мужиками, пилившими там дрова. Два эти мужика были совершенно такие же нищие, как и те, которых я встречал но улицам. Один был Петр, солдат, калужский, другой - мужик, Семен, владимирский. У них ничего не было, кроме платья на теле и рук. И руками этими они зарабатывали при очень тяжелой работе от 40 до 45 копеек в день, из которых они оба откладывали, - калужский откладывал на шубу, а владимирский на то, чтобы собрать денег на отъезд в деревню. Встречая поэтому таких же людей на улицах, я особенно интересовался ими.
Почему те работают, а эти просят?
Встречая такого мужика, я обыкновенно спрашивал, как он дошел до такого положения. Встречаю раз мужика с проседью в бороде, здорового. Он просит; спрашиваю его, кто он, откуда. Он говорит, что пришел на заработки из Калуги. Сначала нашли работу - резать старье в дрова. Перерезали все с товарищем у одного хозяина; искали другой работы, не нашли, товарищ отбился, и вот он бьется так вторую неделю, проел все, что было, - ни пилы, ни колуна не на что купить. Я даю деньги на пилу и указываю ему место, куда приходить работать. Я вперед уже уговорился с Петром и Семеном, чтобы они приняли товарища и подыскали ему пару.
Смотри же, приходи. Там работы много.
Приду, как не прийти! Разве охота, - говорит, - побираться. Я работать могу.
Мужик клянется, что придет, и мне кажется, что он не обманывает, а имеет намерение прийти.
На другой день прихожу к знакомым мне мужикам. Спрашиваю, приходил ли мужик. Не приходил. И так несколько человек обманули меня. Обманывали меня и такие, которые говорили, что им нужно только денег на билет, чтобы уехать домой, и через неделю попадались мне опять на улице. Многих из них я признал уже, и они признали меня и иногда, забыв меня, повторяли мне тот же обман, а иногда уходили, завидев меня. Так я увидал, что в числе и этого разряда есть много обманщиков; но и обманщики эти были очень жалки; все это были полураздетые, бедные, худые, болезненные люди; это были те самые, которые действительно замерзают или вешаются, как мы знаем по газетам.
Когда я говорил про эту городскую нищету с городскими жителями, мне всегда говорили: "О! это еще ничего - все то, что вы видели. А вы пройдите на Хитров рынок и тамошние ночлежные дома. Там вы увидите настоящую "золотую роту". Один шутник говорил мне, что это теперь уже не рота, а золотой полк: так их много стало. Шутник был прав, но он бы был еще справедливее, если бы сказал, что этих людей теперь в Москве не рота и не полк, а их целая армия, думаю, около 50 тысяч. Городские старожилы, когда говорили мне про городскую нищету, всегда говорили это с некоторым удовольствием, как бы гордись передо мной тем, что они знают это. Я помню, когда я был в Лондоне, там старожилы тоже как будто хвастались, говоря про лондонскую нищету. Вот, мол, как у нас.
И мне хотелось видеть эту всю нищету, про которую мне говорили. Несколько раз я направлялся в сторону Хитрова рынка, но всякий раз мне становилось жутко и совестно. "Зачем я пойду смотреть на страдания людей, которым я не могу помочь?" - говорил один голос. "Нет, если ты живешь здесь и видишь все прелести городской жизни, поди, посмотри и на это", - говорил другой голос.
Л.Н.Толстой
ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?
И спрашивал его народ, что же нам делать? И он сказал в ответ: у кого есть две одежды, тот отдай неимущему; в у кого есть пища, делай то же. (Луки III, 10, 11).
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут.
Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут.
Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло.
Если же око твое будет худо, то все тело будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?
Никто не может служить двум господам; ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить богу и мамоне.
Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа во больше ли пищи и тело одежды?
Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?
Потому что всего этого ищут язычники; в потому что отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.
Ищите же прежде царствия божия в правды его, и это все приложится вам. (Мтф. VI, 19 - 25, 31 - 34).
Ибо легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царствие божие. (Мтф. XIX, 24; Луки XVIII, 25; Марка X, 25).
Я всю жизнь прожил не в городе. Когда я в 1881 году переехал на житье в Москву, меня удивила городская бедность. Я знаю деревенскую бедность; но городская была для меня нова и непонятна. В Москве нельзя пройти улицы, чтобы не встретить нищих, и особенных нищих, не похожих на деревенских. Нищие эти не нищие с сумой и Христовым именем, как определяют себя деревенские нищие, а это нищие без сумы и без Христова имени. Московские нищие не носят сумы и не просят милостыни. Большею частью они, встречая или пропуская вас мимо себя, только стараются встретиться с вами глазами. И, смотря по вашему взгляду, они просят или нет. Я знаю одного такого нищего из дворян. Старик ходит медленно, наклоняясь на каждую ногу. Когда он встречается с вами, он наклоняется на одну ногу и делает вам как будто поклон. Если вы останавливаетесь, он берется за фуражку с кокардой, кланяется и просит; если вы не останавливаетесь, то он делает вид, что это только у него такая походка, и он проходит дальше, так же кланяясь на другую ногу. Это настоящий московский нищий, ученый. Сначала я не знал, почему московские нищие не просят прямо, но потом понял, почему они не просят, но все-таки не понял их положения.
Один раз, идя по Афанасьевскому переулку, я увидал, что городовой сажает на извозчика опухшего от водяной и оборванного мужика. Я спросил:
Городовой ответил мне:
За прошение милостыни.
Разве это запрещено?
Стало быть, запрещено, - ответил городовой. Больного водянкой повезли на извозчике. Я взял другого извозчика и поехал за ними. Мне хотелось узнать, правда ли, что запрещено просить милостыню, и как это запрещено. Я никак не мог понять, как можно запретить одному человеку просить о чем-нибудь другого, и, кроме того, не верилось, чтобы было запрещено просить милостыню, тогда как Москва полна нищими.
Я вошел в участок, куда свезли нищего. В участке сидел за столом человек с саблей и пистолетом. Я спросил:
За что взяли этого мужика?
Человек с саблей и пистолетом строго посмотрел на меня и сказал:
Вам какое дело? - Однако, чувствуя необходимость разъяснить мне что-то, он прибавил: - Начальство велит забирать таких; стало быть, надо.
Я ушел. Городовой, тот, который привез нищего, сидя в сенях на подоконнике, глядел уныло в какую-то записную книжку. Я спросил его:
Правда ли, что нищим запрещают просить Христовым именем?
Городовой очнулся, посмотрел на меня, потом не то что нахмурился, но как бы опять заснул и, садясь на подоконник, сказал:
Начальство велит - значит, так надо, - и вновь занялся своей книжкой.
Я сошел на крыльцо к извозчику.
Ну, что? взяли? - спросил извозчик. Извозчика, видно, заняло тоже это дело.
Взяли, - отвечал я.
Извозчик покачал головой.
Как же это у вас, в Москве, запрещено, что ли, просить Христовым именем? - спросил я.
Кто их знает! - сказал извозчик.
Как же это, - сказал я, - нищий Христов, а его в участок ведут?
Нынче уж это оставили, не велят, - сказал извозчик.
После этого я видал и еще несколько раз, как городовые водили нищих в участок и потом в Юсупов рабочий дом.
Раз я встретил на Мясницкой толпу таких нищих, человек с тридцать. Спереди и сзади шли городовые. Я спросил:
За прошение милостыни.
Выходило, что по закону в Москве запрещено просить милостыню всем тем нищим, которых встречаешь в Москве по нескольку на каждой улице и шеренги которых во время службы и особенно похорон стоят у каждой церкви.
Но почему же некоторых ловят и запирают куда-то, а других оставляют? Этого я так и не мог понять. Или есть между ними законные и беззаконные нищие, или их так много, что всех нельзя переловить, или одних забирают, а другие вновь набираются?
Нищих в Москве много всяких сортов: есть такие, что этим живут; есть и настоящие нищие, такие, что почему-нибудь попали в Москву и точно в нужде.
Из этих нищих бывают часто простые мужики и бабы в крестьянской одежде. Я часто встречал таких. Некоторые из них заболели здесь и вышли из больницы и не могут ни кормиться, ни выбраться из Москвы. Некоторые из них, кроме того, и загуливали (таков был, вероятно, и тот больной водянкой). Некоторые были не больные, но погоревшие, или старые, или бабы с детьми; некоторые же были и совсем здоровые, способные работать. Эти совсем здоровые мужики, просившие милостыню, особенно занимали меня. Эти здоровые, способные к работе мужики-нищие занимали меня еще и потому, что со времени моего приезда в Москву я сделал себе привычку для моциона ходить работать на Воробьевы горы с двумя мужиками, пилившими там дрова. Два эти мужика были совершенно такие же нищие, как и те, которых я встречал но улицам. Один был Петр, солдат, калужский, другой - мужик, Семен, владимирский. У них ничего не было, кроме платья на теле и рук. И руками этими они зарабатывали при очень тяжелой работе от 40 до 45 копеек в день, из которых они оба откладывали, - калужский откладывал на шубу, а владимирский на то, чтобы собрать денег на отъезд в деревню. Встречая поэтому таких же людей на улицах, я особенно интересовался ими.
Читатели трактата в России и за рубежом впервые основательно смогли познакомиться с новым Толстым – художником, мыслителем и публицистом, с его новыми общественными, социально-экономическими, философскими, эстетическими взглядами. Книга создавалась по горячим следам важного общественного события – московской переписи (трактат печатался в ряде изданий с подзаголовком «Мысли, вызванные переписью») и личного опыта писателя, участвовавшего в ней. Потрясенный увиденными им фактами социальной несправедливости и холодным, «равнодушным созерцанием» богатыми несчастья бедного люда, Толстой, вступивший на поприще публициста, поставил перед обществом важнейший вопрос русской литературы и публицистики: «Так что же нам делать?» и стремился дать на него свой ответ.В трактате мы видим ужасающие картины городской нищеты и контрастирующие с ними зарисовки роскоши праздной жизни богачей, созданные художественным мастерством Толстого; слышим страстный голос Толстого-публициста, ищущего путь изменения несправедливого устройства жизни, пытающегося пробудить совесть, нравственное начало каждого человека. Авторская исповедь тесно переплетается в трактате с публицистичностью и философским осмыслением открывшейся Толстому картиной реальной жизни.
Толстой с увлечением работал над трактатом: «Не могу тебе выразить, до какой степени я весь поглощен теперь этой работой, уже тянущейся несколько лет и теперь приближающейся к концу. Нужно самому себе выяснить то, что было неясно, и отложить в сторону целый ряд вопросов, как это случилось <…> с вопросами богословскими». Были отложены многие планы, потому что, по признанию писателя, «статья о переписи загородила дорогу. Мне необходимо сказать все, что я знаю в этом направлении» (из письма В. Г. Черткову 8 декабря 1884 г.).
Впечатления европейской общественности от новой книги Толстого восторженно передал Р. Роллан: «Я никогда не забуду его голоса, полного пафоса, его душераздирающего “Что делать?” Он только что открыл все страдание мира и больше не мог его выносить; он порывал со спокойствием своей семейной жизни и с гордостью, которую ему давало искусство».
«Так что же нам делать?» состоит из 24 глав. В первых 12 главах Толстой рассказал о поразившей его московской нищете, об участии в московской городской переписи 1882 года, о своей речи в городской Думе с призывом соединить перепись с помощью беднякам, подробно о посещении Ляпинского ночлежного дома, дома купца Ржанова («Ржановская крепость») в Проточном переулке, где ютилась московская нищета, о раздаче им денег.
«Я обходил все квартиры и днем и ночью, 5 раз, я узнал почти всех жителей этих домов, я понял, что это первое впечатление было впечатление хирурга, приступающего к лечению раны и еще не понявшего всего зла. Когда я осмотрел рану в эти 5 обходов, я убедился, что рана не только ужасна и хуже в 100 раз того, что я предполагал, но я убедился, что она неизлечима и что страдание не только в больном месте, но во всем организме, и что лечить рану нельзя, а единственная надежда излечения есть воздействие на те части, которые кажутся не гнилыми, но которые поражены точно так же», – взволнованно писал Толстой.
И он делится с читателем тем потрясением, какое произвела на него вопиющая крайняя нищета, увиденная им: «И прежде уже чуждая мне и странная городская жизнь теперь опротивела мне так, что все те радости роскошной жизни, которые прежде мне казались радостями, стали для меня мучением. И как я ни старался найти в своей душе хоть какие-нибудь оправдания нашей жизни, я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто, барски накрытого стола, ни экипажа, сытого кучера и лошадей, ни магазинов, театров, собраний. Я не мог не видеть рядом с этим голодных, холодных и униженных жителей Ляпинского дома. И не мог отделаться от мысли, что эти две вещи связаны, что одно происходит от другого».
 Толстой с горечью рассказал о сытой барской жизни и жизни своей семьи. Один из ярких эпизодов, как его старший сын нанял набивать папиросы за 2 рубля 50 копеек за тысячу «худую, желтую, старообразную женщину лет тридцати» и девочку. «Он встает часто в 12, – замечает Толстой. – Вечер от шести до двух проводит за картами или фортепиано, питается вкусным и сладким; все работы на него делают другие. Он выдумывает себе новое удовольствие (дурман) – курить. Есть женщина и девочка, которые еле-еле могут питаться тем, что превращают себя в машину, и всю жизнь проводят, вдыхая табак. У него есть деньги, которые он не заработал, и он предпочитает играть в винт, чем делать себе папироски».
Толстой с горечью рассказал о сытой барской жизни и жизни своей семьи. Один из ярких эпизодов, как его старший сын нанял набивать папиросы за 2 рубля 50 копеек за тысячу «худую, желтую, старообразную женщину лет тридцати» и девочку. «Он встает часто в 12, – замечает Толстой. – Вечер от шести до двух проводит за картами или фортепиано, питается вкусным и сладким; все работы на него делают другие. Он выдумывает себе новое удовольствие (дурман) – курить. Есть женщина и девочка, которые еле-еле могут питаться тем, что превращают себя в машину, и всю жизнь проводят, вдыхая табак. У него есть деньги, которые он не заработал, и он предпочитает играть в винт, чем делать себе папироски».
Домашние Толстого – жена, сыновья и старшая дочь Татьяна Львовна, которых он пытался усовестить, вызвать у них сочувствие к бедным, – были недовольны обличительным тоном нового произведения отца. Толстой неоднократно пытался уговаривать жену переменить их жизнь как в Москве, так и в Ясной Поляне на более простую, но успеха не имел.
Толстой в то время называл душевнобольными всех людей, которые преданы исключительно личной, эгоистической жизни и не понимают того, что истинное благо только в жизни общей. «Я боялся говорит и думать, что все 99/100 сумасшедшие. Но не только бояться нечего, но нельзя не говорить и не думать этого. Если люди действуют безумно (жизнь в городе, воспитание, роскошь, праздность), то наверное они будут говорить безумное. Так и ходишь между сумасшедшими, стараясь не раздражать их и вылечить, если можно». И далее: «Безумная жизнь страшно жалка», – записал он в Дневнике.
Толстой не ограничился лишь резким обличением образа жизни богатых, их безнравственным, не христианским отношением к бедным людям – братьям; он мучительно искал ответа на вопрос: «Так что же делать?».
В последующих главах Толстой раскрывал причины неудачи своих попыток благотворительной деятельности. Он пытался объясниться с читателем: «Прежде чем делать добро, мне надо самому встать вне зла, в такие условия, в которых можно перестать делать зло. А то вся жизнь моя – зло. Я дам 100 тысяч и все не стану еще в то положение, в котором можно делать добро, потому что у меня еще останутся 500 тысяч. Только когда у меня ничего не будет, я буду в состоянии сделать хоть маленькое добро. <...> И я смел думать о добре! То, что с первого раза сказалось мне при виде голодных и холодных у Ляпинского дома, именно то, что я виноват в этом и что так жить, как я жил, нельзя, нельзя и нельзя, – это одно была правда».
В XVI главе трактата Толстой осуждал попытки благотворительной деятельности – свои и других богатых людей: «Я стоял по уши в грязи и других хотел вытаскивать из этой грязи <...>
Кто такой я, – тот, который хочет помогать людям? Я хочу помогать людям, и я, встав в 12 часов после винта с четырьмя свечами, расслабленный, изнеженный, требующий помощи и услуг сотен людей, прихожу помогать – кому же? Людям, которые встают в 5, спят на досках, питаются капустой с хлебом, умеют пахать, косить, насадить топор, тесать, запрягать, шить, – людям, которые и силой, и выдержкой, и искусством, и воздержностью в сто раз сильнее меня. И я им прихожу помогать! Что же, кроме стыда, я и мог испытывать, входя в общение с этими людьми?».
У Толстого возникло чувство, что «в деньгах, в самых деньгах, в обладании ими есть что-то гадкое, безнравственное, что самые деньги и то, что я имею их, есть одна из главных причин тех зол, которые я видел перед собой, и я спросил себя: что такое деньги?» И XVII главу он посвятил рассмотрению вопроса о значении и роли денег при существующем обществе и пришел к выводу, что, «как только в обществе употребляется какое бы то ни было насилие, так тотчас значение денег для владельца их уже теряет значение представителя труда, а получает значение права, основанного не на труде, но на насилии».
«Деньги – это новая страшная форма рабства и так же, как и старая форма рабства, развращающая и раба и рабовладельца, но только гораздо худшая, потому что она освобождает раба и рабовладельца от их личных человеческих отношений».
Чтобы узнать мнение экономистов о его взглядах на роль денег в современном обществе, Толстой пригласил знакомых профессоров Московского университета: экономистов И. И. Янжула, А. И. Чупрова, С. А. Усова и профессора политической экономии в Петровской академии И. И. Иванюкова.
В воспоминаниях А. Амфитеатрова приводится отзыв Чупрова о Толстом: «Пойми же ты, что за удивительная способность мысли, что за сила природная живет в мозгу этого человека! Своим умом, в одиночку, не имея понятия об экономической науке, проделать всю ее эволюцию до XVIII века и подвести ей именно тот итог, который был тогда исторически подведен! Это неслыханно! Это сверхъестественная голова! Это умственный чудовищный феномен!»*.
Толстой пришел к выводам, отвечающим на поставленный им вопрос: «Так что же нам делать?».
«Я понял, что человек, кроме жизни для своего личного блага, неизбежно должен служить и благу других людей; что если брать сравнения из мира животных, как это любят делать некоторые люди, защищая насилие и борьбу борьбой за существование в мире животных, то сравнение надо брать из животных общественных, как пчелы, и что потому человек, не говоря уже о вложенной в него любви к ближнему, и разумом, и самой природой своей призван к служению другим людям и общей человеческой цели.
Я понял, что это естественный закон человека, тот, при котором только он может исполнять свое назначение и потому быть счастлив.
Я понял, что закон этот нарушался и нарушается тем, что люди насилием, как грабительницы-пчелы, освобождают себя от труда, пользуются трудом других, направляя этот труд не к общей цели, а к личному удовлетворению разрастающихся похотей, и так же, как грабительницы-пчелы, погибают от этого.
Я понял, что несчастия людей происходят от рабства, в котором одни люди держат других людей.
Я понял, что рабство нашего времени производится насилием солдатства, присвоением земли и взысканием денег.
И, поняв значение всех трех орудий нового рабства, я не мог не желать избавления себя от участия в нем».
Книга предназначалась для журнала «Русская мысль» С. Юрьева, где Толстой предполагал напечатать свою «Исповедь» и «В чем моя вера?», также запрещенную цензурой, и статьи о переписи. Для журнала «Русская мысль» было сверстано 20 глав трактата «Так что же нам делать?». И вновь последовал запрет цензуры: на полоске бумаги, вклеенной в январский номер журнала 1885 г., было напечатано заявление от редакции: «Помещение нового произведения графа Льва Николаевича Толстого “Так что же нам делать?” откладывается до февральской книги»; а в феврале последовало лаконичное: «... не может быть помещено». Но Толстого радовало, что «она читается по корректурам и уже переписывается», потому что, писал он, «я ясно вижу, что за эти лет пять уже много сделано такого, что не разделается никогда, и что мы подвигаемся и подвигаемся, и что, если бы сейчас умерли мы все, исповедующие сознательно Христово учение, Христово учение осталось бы среди людей не такое, каким оно было, и движение продолжалось бы точно так же».
Решено было печатать трактат в журнале «Русское богатство» Л. Е. Оболенского, давно просившего Толстого дать в журнал свое произведение. Писатель сочувственно относился как к направлению журнала, так и к его редактору: «Его журнал – самый близкий мне по направлению, и потому непременно помещу у него что-нибудь».
В журнале «Русское богатство» 1885-1886 гг. были напечатаны отрывки из трактата, которые воспринимались как самостоятельные статьи и перепечатывались другими изданиями: «Что же нам делать?», «Жизнь в городе» («Русское богатство», 1885, кн. III, с. 638 и кн. IV, с. 1–5), «Из воспоминаний о переписи», (1885, кн. IХ, с. 129-143 и кн. Х, с. 1–18), «Деревня и город» (кн. ХII, с. 145–147). Другие фрагменты из книги вышли в XII части Сочинений Толстого «Произведения последних годов» (1886): «О назначении науки и искусства», «О труде и роскоши», «Женщинам», содержащей также повесть «Смерть Ивана Ильича», народные рассказы, отрывки из публицистических работ последних лет.
Трактат, точнее опубликованные отдельные из него главы, вызвал ожесточенную полемику в печати 1880-х гг. По цензурным условиям, обсуждались преимущественно лишь размышления Толстого «О призвании женщин», опубликованные в последних главах трактата «Так что же нам делать?».
Напечатан трактат под заглавием «Какова моя жизнь» в издании М. Элпидина в Женеве в 1886 г. с цензурными купюрами (полностью – в 1889 г.), а в России в издательстве «Посредник» в 1906 г.
ПСС, т. 25, с. 182–411.
Публицистические обращения Толстого к своим современникам, его настойчиво поставленный вопрос: «Так что же нам делать?» взволновали многих, особенно молодежь; в переписи приняли участие студенты и курсистки. Русское общество услышало и откликнулось на призыв Толстого. «Воззвание Толстого ударило по сердцам и сильно всколыхнуло москвичей. Даже люди, стоявшие собственно в стороне от гущи жизни, люди чисто кабинетного склада, люди более или менее далекие от текущей злобы дня, – и те волновались и вдруг захотели что-то делать, вдруг ощутили потребность что-то предпринять»**.
У Толстого появилось множество новых корреспондентов, желающих побеседовать с ним.
Художник H. H. Ге, позже ставший близким другом Толстого, прочитав его статьи о переписи, решил познакомиться с ним, чтобы «обнять этого великого человека и работать ему»: «Я нашел тут дорогие для меня слова. Толстой, посещая подвалы и видя в них несчастных, пишет: “Наша нелюбовь к низшим – причина их плохого состояния...” Как искра воспламеняет горючее, так это слово меня всего зажгло...»***.
Несмотря на то что «Исповедь» и «В чем моя вера?» были запрещены, а другие работы Толстого начала 1880-х годов вовсе не печатались, взгляды его получали все большую и большую известность и во многих возбуждали живой интерес.
* Амфитеатров А. В. Собрание сочинений: В 10 тт. Т. 10. Кн. 1. – М., 2003. – С. 76; Янжул И. И. Мое знакомство с Толстым // Международный Толстовский альманах. – М., 1909. – С. 410.
** Пругавин А. С. Л. Н. Толстой в 80-х годах // Новая жизнь. – 1912. – № 5.
*** Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка. – М.-Л., 1930. – С. 8.
Л.Н.Толстой
ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?
И спрашивал его народ, что же нам делать? И он сказал в ответ: у кого есть две одежды, тот отдай неимущему; в у кого есть пища, делай то же. (Луки III, 10, 11).
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут.
Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут.
Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло.
Если же око твое будет худо, то все тело будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?
Никто не может служить двум господам; ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить богу и мамоне.
Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа во больше ли пищи и тело одежды?
Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?
Потому что всего этого ищут язычники; в потому что отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.
Ищите же прежде царствия божия в правды его, и это все приложится вам. (Мтф. VI, 19 - 25, 31 - 34).
Ибо легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царствие божие. (Мтф. XIX, 24; Луки XVIII, 25; Марка X, 25).
Я всю жизнь прожил не в городе. Когда я в 1881 году переехал на житье в Москву, меня удивила городская бедность. Я знаю деревенскую бедность; но городская была для меня нова и непонятна. В Москве нельзя пройти улицы, чтобы не встретить нищих, и особенных нищих, не похожих на деревенских. Нищие эти не нищие с сумой и Христовым именем, как определяют себя деревенские нищие, а это нищие без сумы и без Христова имени. Московские нищие не носят сумы и не просят милостыни. Большею частью они, встречая или пропуская вас мимо себя, только стараются встретиться с вами глазами. И, смотря по вашему взгляду, они просят или нет. Я знаю одного такого нищего из дворян. Старик ходит медленно, наклоняясь на каждую ногу. Когда он встречается с вами, он наклоняется на одну ногу и делает вам как будто поклон. Если вы останавливаетесь, он берется за фуражку с кокардой, кланяется и просит; если вы не останавливаетесь, то он делает вид, что это только у него такая походка, и он проходит дальше, так же кланяясь на другую ногу. Это настоящий московский нищий, ученый. Сначала я не знал, почему московские нищие не просят прямо, но потом понял, почему они не просят, но все-таки не понял их положения.
Один раз, идя по Афанасьевскому переулку, я увидал, что городовой сажает на извозчика опухшего от водяной и оборванного мужика. Я спросил:
- За что?
Городовой ответил мне:
- За прошение милостыни.
- Разве это запрещено?
- Стало быть, запрещено, - ответил городовой. Больного водянкой повезли на извозчике. Я взял другого извозчика и поехал за ними. Мне хотелось узнать, правда ли, что запрещено просить милостыню, и как это запрещено. Я никак не мог понять, как можно запретить одному человеку просить о чем-нибудь другого, и, кроме того, не верилось, чтобы было запрещено просить милостыню, тогда как Москва полна нищими.
Я вошел в участок, куда свезли нищего. В участке сидел за столом человек с саблей и пистолетом. Я спросил:
- За что взяли этого мужика?
Человек с саблей и пистолетом строго посмотрел на меня и сказал:
- Вам какое дело? - Однако, чувствуя необходимость разъяснить мне что-то, он прибавил: - Начальство велит забирать таких; стало быть, надо.
Я ушел. Городовой, тот, который привез нищего, сидя в сенях на подоконнике, глядел уныло в какую-то записную книжку. Я спросил его:
- Правда ли, что нищим запрещают просить Христовым именем?
Городовой очнулся, посмотрел на меня, потом не то что нахмурился, но как бы опять заснул и, садясь на подоконник, сказал:
- Начальство велит - значит, так надо, - и вновь занялся своей книжкой.
Я сошел на крыльцо к извозчику.
- Ну, что? взяли? - спросил извозчик. Извозчика, видно, заняло тоже это дело.
- Взяли, - отвечал я.
Извозчик покачал головой.
- Как же это у вас, в Москве, запрещено, что ли, просить Христовым именем? - спросил я.
- Кто их знает! - сказал извозчик.
- Как же это, - сказал я, - нищий Христов, а его в участок ведут?
- Нынче уж это оставили, не велят, - сказал извозчик.
После этого я видал и еще несколько раз, как городовые водили нищих в участок и потом в Юсупов рабочий дом.
Раз я встретил на Мясницкой толпу таких нищих, человек с тридцать. Спереди и сзади шли городовые. Я спросил:
- За что?
- За прошение милостыни.
Выходило, что по закону в Москве запрещено просить милостыню всем тем нищим, которых встречаешь в Москве по нескольку на каждой улице и шеренги которых во время службы и особенно похорон стоят у каждой церкви.
Но почему же некоторых ловят и запирают куда-то, а других оставляют? Этого я так и не мог понять. Или есть между ними законные и беззаконные нищие, или их так много, что всех нельзя переловить, или одних забирают, а другие вновь набираются?
Нищих в Москве много всяких сортов: есть такие, что этим живут; есть и настоящие нищие, такие, что почему-нибудь попали в Москву и точно в нужде.
Из этих нищих бывают часто простые мужики и бабы в крестьянской одежде. Я часто встречал таких. Некоторые из них заболели здесь и вышли из больницы и не могут ни кормиться, ни выбраться из Москвы. Некоторые из них, кроме того, и загуливали (таков был, вероятно, и тот больной водянкой). Некоторые были не больные, но погоревшие, или старые, или бабы с детьми; некоторые же были и совсем здоровые, способные работать. Эти совсем здоровые мужики, просившие милостыню, особенно занимали меня. Эти здоровые, способные к работе мужики-нищие занимали меня еще и потому, что со времени моего приезда в Москву я сделал себе привычку для моциона ходить работать на Воробьевы горы с двумя мужиками, пилившими там дрова. Два эти мужика были совершенно такие же нищие, как и те, которых я встречал но улицам. Один был Петр, солдат, калужский, другой - мужик, Семен, владимирский. У них ничего не было, кроме платья на теле и рук. И руками этими они зарабатывали при очень тяжелой работе от 40 до 45 копеек в день, из которых они оба откладывали, - калужский откладывал на шубу, а владимирский на то, чтобы собрать денег на отъезд в деревню. Встречая поэтому таких же людей на улицах, я особенно интересовался ими.
Почему те работают, а эти просят?
Встречая такого мужика, я обыкновенно спрашивал, как он дошел до такого положения. Встречаю раз мужика с проседью в бороде, здорового. Он просит; спрашиваю его, кто он, откуда. Он говорит, что пришел на заработки из Калуги. Сначала нашли работу - резать старье в дрова. Перерезали все с товарищем у одного хозяина; искали другой работы, не нашли, товарищ отбился, и вот он бьется так вторую неделю, проел все, что было, - ни пилы, ни колуна не на что купить. Я даю деньги на пилу и указываю ему место, куда приходить работать. Я вперед уже уговорился с Петром и Семеном, чтобы они приняли товарища и подыскали ему пару.
- Смотри же, приходи. Там работы много.
- Приду, как не прийти! Разве охота, - говорит, - побираться. Я работать могу.
Мужик клянется, что придет, и мне кажется, что он не обманывает, а имеет намерение прийти.
На другой день прихожу к знакомым мне мужикам. Спрашиваю, приходил ли мужик. Не приходил. И так несколько человек обманули меня. Обманывали меня и такие, которые говорили, что им нужно только денег на билет, чтобы уехать домой, и через неделю попадались мне опять на улице. Многих из них я признал уже, и они признали меня и иногда, забыв меня, повторяли мне тот же обман, а иногда уходили, завидев меня. Так я увидал, что в числе и этого разряда есть много обманщиков; но и обманщики эти были очень жалки; все это были полураздетые, бедные, худые, болезненные люди; это были те самые, которые действительно замерзают или вешаются, как мы знаем по газетам.
II
Когда я говорил про эту городскую нищету с городскими жителями, мне всегда говорили: "О! это еще ничего - все то, что вы видели. А вы пройдите на Хитров рынок и тамошние ночлежные дома. Там вы увидите настоящую "золотую роту". Один шутник говорил мне, что это теперь уже не рота, а золотой полк: так их много стало. Шутник был прав, но он бы был еще справедливее, если бы сказал, что этих людей теперь в Москве не рота и не полк, а их целая армия, думаю, около 50 тысяч. Городские старожилы, когда говорили мне про городскую нищету, всегда говорили это с некоторым удовольствием, как бы гордись передо мной тем, что они знают это. Я помню, когда я был в Лондоне, там старожилы тоже как будто хвастались, говоря про лондонскую нищету. Вот, мол, как у нас.
И мне хотелось видеть эту всю нищету, про которую мне говорили. Несколько раз я направлялся в сторону Хитрова рынка, но всякий раз мне становилось жутко и совестно. "Зачем я пойду смотреть на страдания людей, которым я не могу помочь?" - говорил один голос. "Нет, если ты живешь здесь и видишь все прелести городской жизни, поди, посмотри и на это", - говорил другой голос.
И вот в декабре месяце третьего года, в морозный и ветреный день, я пошел к атому центру городской нищеты, к Хитрову рынку. Это было в будни, часу в четвертом. Уже идя по Солянке, я стал замечать больше и больше людей в странных, не своих одеждах и в еще более странной обуви, людей с особенным нездоровым цветом лица и, главное, с особенным общим им всем пренебрежением ко всему окружающему. В самой странной, ни на что не похожей одежде человек шел совершенно свободно, очевидно без всякой мысли о том, каким он может представляться другим людям. Все эти люди направлялись в одну сторону. Не спрашивая дороги, которую я не знал, я шел за ними и вышел на Хитров рынок. На рынке такие же женщины в оборванных капотах, салопах, кофтах, сапогах и калошах и столь же свободные, несмотря на уродство своих одежд, старые и молодые, сидели, торговали чем-то, ходили и ругались. Народу на рынке было мало. Очевидно, рынок отошел, и большинство людей шло в гору мимо рынка и через рынок, все в одну сторону. Я пошел за ними. Чем дальше я шел, тем больше сходилось все таких же людей по одной дороге. Пройдя рынок и идя вверх по улице, я догнал двух женщин: одна старая, другая молодая. Обе в чем-то оборванном и сером. Они шли и говорили о каком-то деле.
После каждого нужного слова произносилось одно или два ненужных, самых неприличных слова. Они были не пьяны, чем-то были озабочены, и шедшие навстречу, и сзади и спереди, мужчины не обращали на эту их странную для меня речь никакого внимания. В этих местах, видно, всегда так говорили. Налево были частные ночлежные дома, и некоторые завернули туда, другие шли дальше. Взойдя на гору, мы подошли к угловому большому дому. Большинство людей, шедших со мною, остановилось у этого дома. По всему тротуару этого дома стояли и сидели на тротуаре и на снегу улицы все такие же люди. С правой стороны входной двери - женщины, с левой - мужчины. Я прошел мимо женщин, прошел мимо мужчин (всех было несколько сот) и остановился там, где кончалась их вереница. Дом, у которого дожидались эти люди, был Ляпинский бесплатный ночлежный дом. Толпа людей были ночлежники, ожидающие впуска. В 5 часов вечера отворяют и впускают. Сюда-то шли почти все те люди, которых я обгонял.
Я остановился там, где кончалась вереница мужчин. Ближайшие ко мне люди стали смотреть на меня и притягивали меня своими взглядами. Остатки одежд, покрывавших эти тела, были очень разнообразны. Но выражение всех взглядов этих людей, направленных на меня, было совершенно одинаково. Во всех взглядах было выражение вопроса: зачем ты - человек из другого мира - остановился тут подле нас? Кто ты? Самодовольный ли богач, который хочет порадоваться на нашу нужду, развлечься от своей скуки и еще помучить нас, или ты то, что не бывает и не может быть, - человек, который жалеет нас? На всех лицах был этот вопрос. Взглянет, встретится глазами и отвернется. Мне хотелось заговорить с кем-нибудь, и я долго не решался. Но пока мы молчали, уже взгляды наши сблизили нас. Как ни разделила пас жизнь, после двух, трех встреч взглядов мы почувствовали, что мы оба люди, и перестали бояться друг друга. Ближе всех ко мне стоял мужик с опухшим лицом и рыжей бородой, в прорванном кафтане и стоптанных калошах на босу ногу. А было 8 градусов мороза. В третий или четвертый раз я встретился с ним глазами и почувствовал такую близость с ним, что уж не то что совестно было заговорить с ним, но совестно было не сказать чего-нибудь. Я спросил, откуда он. Он охотно ответил и заговорил; другие приблизились. Он смоленский, пришел искать работы на хлеб и подати. "Работы, говорит, - нет, солдаты нынче всю работу отбили. Вот и мотаюсь теперь; верьте богу, - не ел два дня", - сказал он робко с попыткой улыбки. Сбитенщик, старый солдат, стоял тут. Я подозвал. Он налил сбитня. Мужик взял горячий стакан в руки и, прежде чем пить, стараясь не упустить даром тепло, грел об него руки. Грея руки, он рассказывал мне свои похождения. Похождения или рассказы про похождения почти все одни и те же: была работишка, потом перевелась, а тут в ночлежном доме украли кошель с деньгами и с билетом. Теперь нельзя выйти из Москвы. Он рассказал, что днем он греется по кабакам, кормится тем, что съедает закуску (куски хлеба в кабаках); иногда дадут, иногда выгонят; ночует даром здесь в Ляпинском доме. Ждет только обхода полицейского, который, как беспаспортного, заберет его в острог и отправит по этапу на местожительства. "Говорят, в четверг будет обход, - сказал он, - тогда заберут. Только бы до четверга добиться". (Острог и этап представляются для него обетованной землей.)
Пока он рассказывал, человека три из толпы подтвердили его слова и сказали, что они точно в таком же положении.
Худой юноша, бледный, длинноносый, в одной рубахе на верхней части тела, прорванной на плечах, и в фуражке без козырька, бочком протерся ко мне чрез толпу. Он не переставая дрожал крупной дрожью, но старался улыбаться презрительно на речи мужиков, полагая этим попасть в мой тон, и глядел на меня. Я предложил и ему сбитню; он также, взяв стакан, грел об него руки и только что начал что-то говорить, как его оттеснил большой, черный, горбоносый, в рубахе ситцевой и жилете, без шапки. Горбоносый попросил тоже сбитня. Потом старик длинный, клином борода, в пальто, подпоясан веревкой и в лаптях, пьяный. Потом маленький, с опухшим лицом и с слезящимися глазами в коричневом нанковом пиджаке и с голыми коленками, торчавшими в дыры летних панталон, стучавшими друг о друга от дрожи. Он не мог удержать стакан от дрожи и пролил его на себя. Его стали ругать. Он только жалостно улыбался и дрожал. Потом кривой урод в лохмотьях и опорках на босу ногу, потом что-то офицерское, потом что-то духовного звания, потом что-то странное, безносое, - все это голодное и холодное, умоляющее и покорное теснилось вокруг меня и жалось к сбитню. Сбитень выпили. Один попросил денег; я дал. Попросил другой, третий, и толпа осадила меня. Сделалось замешательство, давка. Дворник соседнего дома крикнул на толпу, чтоб очистили тротуар против его дома, и толпа покорно исполнила его приказание. Явились распорядители из толпы и взяли меня под свое покровительство - хотели вывести из давки, но толпа, прежде растянутая по тротуару, теперь вся расстроилась и прижалась ко мне. Все смотрели на меня и просили; и одно лицо было жалче и измученнее и униженнее другого. Я роздал все, что у меня было. Денег у меня было немного: что-то около 20 рублей, и я с толпою вместе вошел в ночлежный дом.
Ночлежный дом огромный. Он состоит из четырех отделений. В верхних этажах - мужские, в нижних - женские. Сначала я вошел в женское; большая комната вся занята койками, похожими на койки 3-го класса железных дорог. Койки расположены в два этажа - наверху и внизу. Женщины, странные, оборванные, в одних платьях, старые и молодые, входили и занимали места, которые внизу, которые наверху. Некоторые старые крестились и поминали того, кто устроил этот приют, некоторые смеялись и ругались. Я прошел наверх. Там также размещались мужчины; между ними я увидал одного из тех, которым я давал деньги. Увидав его, мне вдруг стало ужасно стыдно, и я поспешил уйти. И с чувством совершенного преступления я вышел из этого дома и пошел домой. Дома я вошел по коврам лестницы в переднюю, пол которой обит сукном, и, сняв шубу, сел за обед из 5 блюд, за которым служили два лакея во фраках, белых галстуках и белых перчатках.
Тридцать лет тому назад я видел в Париже, как в присутствии тысячи зрителей отрубили человеку голову гильотиной. Я знал, что человек этот был ужасный злодей; я знал все те рассуждения, которые столько веков пишут люди, чтобы оправдать такого рода поступки; я знал, что это сделали нарочно, сознательно; но в тот момент, когда голова и тело разделились и упали в ящик, я ахнул и понял не умом, не сердцем, а всем существом моим, что все рассуждения, которые я слышал о смертной казни, есть злая чепуха, что сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы совершить убийство, как бы они себя ни называли, убийство худший грех в мире, и что вот на моих глазах совершен этот грех. Я своим присутствием и невмешательством одобрил этот грех и принял участие в нем. Так и теперь, при виде этого голода, холода и унижения тысячи людей, я не умом, не сердцем, а всем существом моим понял, что существование десятков тысяч таких людей в Москве, тогда, когда я с другими тысячами объедаюсь филеями и осетриной и покрываю лошадей и полы сукнами и коврами, что бы ни говорили мне все ученые мира о том, как это необходимо, - есть преступление, не один раз совершенное, но постоянно совершающееся, и что я, с своей роскошью, не только попуститель, но прямой участник его. Для меня разница этих двух впечатлений была только в том, что там все, что я мог сделать, это было то, чтобы закричать убийцам, стоявшим около гильотины и распоряжавшимся убийством, что они делают зло, и всеми средствами стараться помешать. Но и делая это, я мог вперед знать, что этот мой поступок не помешает убийству. Здесь же я мог дать не только сбитень и те ничтожные деньги, которые были со мной, но я мог отдать и пальто с себя и все, что у меня есть дома. А я не сделал этого и потому чувствовал, и чувствую, и не перестану чувствовать себя участником постоянно совершающегося преступления до тех пор, пока у меня будет излишняя пища, а у другого совсем не будет, у меня будут две одежды, а у кого-нибудь но будет ни одной.
III
В тот же вечер, когда я вернулся из Ляпинского дома, Я рассказывал свое впечатление одному приятелю. Приятель - городской житель - начал говорить мне не без удовольствия, что это самое естественное городское явление, что я только по провинциализму своему вижу в этом что-то особенное, что всегда это так было и будет, что это должно так быть и есть неизбежное условие цивилизации. В Лондоне еще хуже... стало быть, дурного тут ничего нет и недовольным этим быть нельзя. Я стал возражать своему приятелю, но с таким жаром и с такою злобою, что жена прибежала из другой комнаты, спрашивая, что случилось. Оказалось, что я, сам не замечая того, со слезами в голосе кричал и махал руками на своего приятеля. Я кричал: "Так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!" Меня устыдили за мою ненужную горячность, сказали мне, что я ни о чем не могу говорить спокойно, что я неприятно раздражаюсь, и, главное, доказали мне то, что существование таких несчастных никак не может быть причиной того, чтобы отравлять жизнь своих близких.
Я должен был согласиться, что это справедливо, и замолчал; но в глубине души я чувствовал, что и я прав, и не мог успокоиться.
И прежде уже чуждая мне и странная городская жизнь теперь опротивела мне так, что все те радости роскошной жизни, которые прежде мне казались радостями, стали для меня мучением. И как я ни старался найти в своей душе хоть какие-нибудь оправдания нашей жизни, я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто, барски накрытого стола, ни экипажа, сытого кучера и лошадей, ни магазинов, театров, собраний. Я не мог не видеть рядом с этим голодных, холодных и униженных жителей Ляпинского дома. И не мог отделаться от мысли, что эти две вещи связаны, что одно происходит от другого. Помню, что как мне сказалось в первую минуту это чувство моей виновности, так оно и осталось во мне, но к этому чувству очень скоро подмешалось другое и заслонило его.
Когда я говорил про свое впечатление Ляпинского дома моим близким друзьям и знакомым, все мне отвечали то же, что и мой первый приятель, с которым я стал кричать; но, кроме того, выражали еще одобрение моей доброте и чувствительности и давали мне понимать, что зрелище это так особенно подействовало на меня только потому, что я, Лев Николаевич, очень добр и хорош. И я охотно поверил этому. И не успел я оглянуться, как, вместо чувства упрека и раскаяния, которое я испытал сначала, во мне уже было чувство довольства перед своей добродетелью и желание высказать ее людям.
Должно быть, в самом деле, говорил я себе, виноват тут не я собственно своей роскошной жизнью, а виноваты необходимые условия жизни. Ведь изменение моей жизни не может поправить то зло, которое я видел. Изменяя свою жизнь, я сделаю несчастным только себя и своих близких, а те несчастия останутся такие же.
И потому задача моя не в том, чтобы изменить свою жизнь, как это мне показалось сначала, а в том, чтобы содействовать, насколько это в моей власти, улучшению положения тех несчастных, которые вызвали мое сострадание. Все дело в том, что я очень добрый, хороший человек и желаю делать добро ближним. И я стал обдумывать план благотворительной деятельности, в которой я могу выказать всю мою добродетель. Должен сказать, однако, что и обдумывая эту благотворительную деятельность, в глубине души я все время чувствовал, что это не то; но, как это часто бывает, деятельность рассудка и воображения заглушала во мне этот голос совести. В это время случилась перепись. Это показалось мне средством для учреждения той благотворительности, в которой я хотел выказать мою добродетель. Я знал про многие благотворительные учреждения и общества, существующие в Москве, но вся деятельность их казалась мне и ложно направленной и ничтожной в сравнении с тем, что я хотел сделать. Я и придумал следующее: вызвать в богатых людях сочувствие к городской нищете, собрать деньги, набрать людей, желающих содействовать этому делу, и вместе с переписью обойти все притоны бедности и, кроме работы переписи, войти в общение с несчастными, узнать подробности их нужды и помочь им деньгами, работой, высылкой из Москвы, помещением детей в школы, стариков и старух в приюты и богадельни. Мало того, я думал, что из тех людей, которые займутся этим, составится постоянное общество, которое, разделив между собой участки Москвы, будет следить за тем, чтобы бедность и нищета эта не зарождались; будет постоянно, в начале еще зарождения ее, уничтожать ее; будет исполнять обязанность не столько лечения, сколько гигиены городской бедноты. Я воображал уже себе, что, не говоря о нищих, просто нуждающихся не будет в городе, и что все это сделаю я, и что мы все, богатые, будем после этого спокойно сидеть в своих гостиных и кушать обед из 5 блюд и ездить в каретах в театры и собрания, не смущаясь более такими зрелищами, какие я видел у Ляпинского дома.
Составив себе этот план, я написал статью об этом и, прежде еще, чем отдать ее в печать, пошел по знакомым, от которых надеялся получить содействие. Всем, кого я видал в этот день (я обращался особенно к богатым), я говорил одно и то же, почти то же, что я написал потом в статье: я предлагал воспользоваться переписью для того, чтобы узнать нищету в Москве и помочь ей делом и деньгами, и сделать так, чтобы бедных не было в Москве, и мы, богатые, с покойной совестью могли бы пользоваться привычными нам благами жизни. Все слушали меня внимательно и серьезно, но при этом со всеми без исключения происходило одно и то же: как только слушатели понимали, в чем дело, им становилось как будто неловко и немножко совестно. Им было как будто совестно, и преимущественно за меня, за то, что я говорю глупости, но такие глупости, про которые никак нельзя прямо сказать, что это глупости. Как будто какая-то внешняя причина обязывала слушателей потакнуть этой моей глупости.
- Ах, да! Разумеется. Это было бы очень хорошо, - говорили мне. - Само собой разумеется, что этому нельзя не сочувствовать. Да, мысль ваша прекрасна. Я сам или сама думала это, но... у нас так вообще равнодушны, что едва ли можно рассчитывать на большой успех... Впрочем, я, с своей стороны, разумеется, готов или готова содействовать.
Подобное этому говорили мне все. Все соглашались, но соглашались, как мне казалось, не вследствие моего убеждения и не вследствие своего желания, а вследствие какой-то внешней причины, не позволявшей не согласиться. Я заметил это уже потому, что ни один из обещавших мне свое содействие деньгами, ни один сам не определил суммы, которую он намерен дать, так что я сам должен был определить ее и спрашивать: "Так могу я рассчитывать на вас до 300, или 200, или 100, 25 рублей?", и ни один не дал денег. Я отмечаю это потому, что когда люди дают деньги на то, чего сами желают, то, обыкновенно, торопятся дать деньги. На ложу Сарры Бернар сейчас дают деньги в руки, чтобы закрепить дело. Здесь же из всех тех, которые соглашались дать деньги и выражали свое сочувствие, ни один не предложил сейчас же дать деньги, но только молчаливо соглашался на ту сумму, которую я определял. В последнем доме, в котором я был в этот день вечером, я случайно застал большое общество. Хозяйка этого дома уже несколько лет занимается благотворительностью. У подъезда стояло несколько карет, в передней сидело несколько лакеев в дорогих ливреях. В большой гостиной, за двумя столами и лампами, сидели одетые в дорогие наряды и с дорогими украшениями дамы и девицы и одевали маленьких кукол; несколько молодых людей было тут же, около дам. Куклы, сработанные этими дамами, должны были быть разыграны в лотерею для бедных.